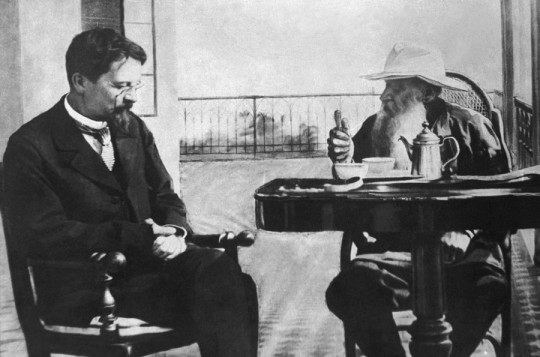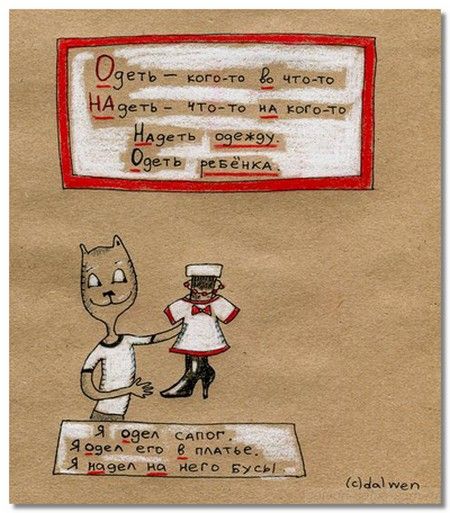Архимандрит Феогност (Пушков)
Смысл и символическое
значения текстов Священного Писания, как правило, недоступны
современному человеку. В данной работе рассматривается текст библейской
книги Песнь Песней как пример необходимости тщательного
изучения текста Писания.
Предисловие
Священное Писание — сокровищница религиозного опыта, выраженного в
культуре, языке, искусстве и традициях конкретного народа. Исторические
авторы Священного Писания пользовались для выражения своего религиозного
опыта родным языком. Но «язык» — это понятийная база, культура
мышления, символизм, семантика. В этом смысле Библию вполне можно
сравнить с ларцом, содержащим в себе драгоценности, созданные древними
мастерами по всем правилам. Но понимание смысла и символического
значения каждой вещи из ларца, как правило, недоступно современному
человеку. Причина не только в разном духовном опыте, но еще и в
культурологическом разрыве: автор на языке своей культуры выразил
вдохновенный опыт прикосновения к Тайне. У современного читателя есть
искушение проигнорировать историко-культурный контекст. Но тогда
религиозное содержание слова окажется воспринятым неверно.
Одним из основных примеров необходимости тщательного (а не
поверхностного) изучения текста Писания дает нам библейская книга Песнь
Песней. В популярных высказываниях многих авторов, в том числе имеющих
богословское образование, часто можно прочитать, что Песнь Песней — это
«гимн супружеской любви», а то и «застольная свадебная песнь». Но
внимательное прочтение текста книги приводит к выводу, что они не
обратили внимания на неуместность двух вопиющих доказательств о
«небрачном» характере книги.
1.«Встретили меня стражи, обходящие город, избили меня, изранили меня; сняли с меня покрывало стерегущие стены» Песн. 5:7).
Можем ли мы представить себе эти слова в устах не то что невесты царя
на брачном пире, но даже обычной невесты? Представим себе, что какие-то
грубые солдаты надругались над невестой до ее бракосочетания (а слова
«сняли покрывало» на языке восточной культуры как раз означало «лишение
невинности») — вошло бы это событие в застольную гимнографию брака? А уж
если бы такое произошло с невестой Соломона (да и могло ли такое
произойти вообще?), то дело бы закончилось не династическим браком, а
войной между Египтом и Израилем!
2. «Пришел
я в сад мой, сестра моя, невеста; набрал мирры моей с ароматами моими,
поел сотов моих с медом моим, напился вина моего с молоком моим. Ешьте,
друзья, пейте и насыщайтесь, возлюбленные!»(Песн. 5:1).
«Сад» и есть символ невесты: «Запертый сад — сестра моя, невеста,
заключенный колодезь, запечатанный источник» (Песн. 4:12). Здесь Жених
по всем правилам символизма восточной культуры перечисляет все атрибуты
ее непорочного девства (запертый сад, заключенный колодец, запечатанный
источник). Тогда как в 1-м стихе 5-й главы Жених поначалу символически
говорит об «обладании» невестой (в восточной культуре символика «меда»,
«вина», «мирры» говорит о сексуальных удовольствиях, когда эти
слова-символы стоят в качестве сказуемого относительно жениха и
невесты). Но Жених не только сам наслаждается, но приглашает друзей:
«Ешьте, друзья, пейте и насыщайтесь, возлюбленные!» (5:1). Если
предыдущие слова точно говорят о земной любви, то и эти (если они не
вырваны из контекста) приглашают после Жениха его друзей «обладать» его
невестой. Если бы этот текст мы встретили в Индии или в Тибете, то
недоумения бы не было. Этим культурам присуща традиция, согласно которой
муж мог — по своему желанию — «пригласить друзей» к интимным
удовольствиям со своей супругой. Но Песнь Песней — это гимн Израиля!
Здесь такое немыслимо! Женщину за измену мужу побивали камнями! Поэтому
важно помнить, что Песнь Песней — это не Кама Сутра!
Итак, два (а на самом деле их намного больше) «казуса»
свидетельствуют нам о неуместности и недопустимости толкования Песни
Песней как брачного текста.
Тогда о чем же эта книга?
Для ответа рассмотрим следующие вопросы:
— Время происхождения книги;
— Вопрос о литературной целостности;
— Название книги.
После удовлетворительного ответа на эти вопросы мы с легкостью сможем
объяснить семантику как уже процитированных слов Песни Песней, так и
других символов и аллегорий книги.
1. Когда Песнь Песней впервые упоминается в иудейской
письменности? Кто из иудейских авторов впервые приводит цитату или
ссылку на эту книгу?
Этот вопрос фундаментален. Ведь если Песнь Песней — ветхозаветная
книга, то она, несомненно, должна быть известна в дохристианской
иудейской традиции. Но это одна из тех книг Ветхого Завета, которая (в
этом ее парадокс) не была известна в ветхозаветное время. Наряду с
Экклесиастом она не цитируется ни в ветхозаветных, ни в новозаветных
текстах, происхождение которых можно с уверенностью датировать ранее
55-60 годов
1. Лишь самые поздние тексты апостольской традиции
(послание Павла к Ефесянам и Апокалипсис) содержат (и то косвенно)
ссылку на Песнь Песней.
Для лучшего понимания сути вопроса необходимо дать одно уточнение о
тексте еврейской Библии. Там книги делится на три группы: «Закон»
(Пятикнижие пророка Моисея), «Пророки» (куда входят не только собственно
книга пророков, но и исторические книги Навина, Царств, Паралипоменон,
за исключением Книги пророка Даниила), а также «Писания». Эта последняя
часть содержит «самые поздние» книги. Ее отличие состоит в том, что она в
I веке н.э. считалась «открытой» частью Писания, которую можно еще
«дополнять», тогда как «Закон» и «Пророки» были уже твердо оформившимися
и закрытыми для всякой дискуссии частями Писания. Собственно, во
времена земной жизни Христа непререкаемым авторитетом обладали именно
эти две первые части Библии.
В 70 году н.э. Иерусалим был завоеван римскими императорами Титом и
Веспасианом, а Храм превращен в руины. С точки зрения религии Израиля,
это событие требовало срочной рефлексии. Отсутствие храма означало
отсутствие жертвоприношений, а значит, вместо обездействованного
священства первенствующее место заняли ученые книжники, раввины. В 71
году в маленьком городке Ямния было проведено собрание раввинов с целью
составления новых правил поведения и богослужения для иудеев в новых
исторических условиях. Ведь события 70 года несравнимы с Вавилонским
Пленом. Тогда Храм был тоже разрушен, но сами иудеи «всем народом» были
переселены в Вавилонию и расселились — по приказу царя — в особых
поселениях (прообразах гетто). Сейчас они не получили никакого приказа
относительно будущего проживания, т.е. им предстояло рассеяние, какого
не знала прежде их многовековая история.
На этом собрании раввинов в Ямнии решался вопрос о признании или
непризнании некоторых «новооткрывшихся» книг еврейской письменности,
претендующих на свое место в библейском каноне. И среди этих книг были
Экклезиаст и Песнь Песней! Основным аргументом против этой книги было
то, что она не известна в древности.
Разумеется,
если бы эта книга была известна хотя бы лет на 30
ранее, то ее вопрос встал бы перед Великим Синедрионом и был бы решен со
всей властью священнического авторитета еще во время существования
Храма. Также разумеется, что книги, однажды включенные в канон, в
иудейской религии вторично уже не подвергались бы пересмотру (или хотя
бы были четкие указания, когда прежде был признан авторитет книги и
почему она нуждается в пересмотре). Ничего подобного не было
относительно Песни Песней, из чего с твердостью можно утверждать, что
книга была не известна авторитетам религии Израиля в прежние времена. Ее
происхождение можно датировать не ранее начала, а то и середины I века
н.э. Широкую известность она обретает где-то в 50–60 годы (если верить,
что в Послании апостола Павла к Ефесянам присутствует косвенная аллюзия
на Песнь Песней). Вот почему вопрос о статусе книги был рассмотрен в 71
году.
Если даже предположить, что эта книга представляет собой компиляцию
из разных свадебных песен (а к 71 году н.э., как предполагают некоторые
авторы, эти песни были просто включены в сборник), то почему
ни один из участников собрания раввинов в Ямнии не опознал в книге Песни Песней фольклора? Это
позднее — уже во II веке н.э. — многие, по словам рабби Акивы,
«невежественные евреи» «стали использовать» Песнь Песней во время
брачных застолий. Но до середины I века книга не была известна евреям ни
целиком, ни в частях!
Существует гипотеза, что Песнь Песней возникла в паре с Псалмами Соломона
2.
Этот корпус был составлен в I веке до н.э. После взятия Палестины Гнеем
Помпеем (т.е. после 63 г. до РX) «Псалмы Соломона», как и Песнь Песней,
так же вошли в Септуагинту
3. При этом существует вполне
обоснованное мнение, что оригинальный язык «Псалмов Соломона» —
еврейский, как и язык Песни Песней. Однако ввиду того, что оригинал
«Псалмов Соломона» не сохранился, а остался только их перевод на
греческий, то иудейский раввинат в 71 году оставил Псалмы вне канона
Священных Писаний, а Песнь Песней (еврейский оригинал которой
сохранился) вошла в корпус еврейской Библии.
В Талмуде (Мишна) трактат «Яддаим» гл. (3:4–5) упоминает о споре
рабби Акивы (ок. 80–100 гг. н.э.) с противниками включения Песни Песней в
канон Писания. Рабби не только отстаивал честь и достоинство этой
книги, но и заявил, что «весь мир не стоит того дня, когда Израилю дана
была книга Песнь Песней. И если все Книги — святое, то Песнь Песней —
Святое Святых». При этом Акива указал, что «существуют глупцы, которые
понимают этот текст буквально», как описание физических отношений между
полами. Несомненно и то, что в иудейский канон Священных книг Песнь
Песней попала только благодаря своему мистическому толкованию. Как
брачная песнь она, разумеется, никого не волновала. В таковом же
качестве (как мистическая песнь мессианского брака Христа с Церковью —
ср. Откр. 21: 2 и 22:11) Песнь Песней была принята и в недра
христианства.
2. Является ли Песнь Песней цельным литературным
произведением (пусть и написанным, к примеру, несколькими авторами, но
одномоментно) или это собрание более ранних стихов, составленных разными
авторами в разное время, но объединенных в сборник общей тематикой
(«собрание песен о любви»)?
Один из популяризаторов высказался, что Песнь Песней — «это,
по-видимому, сборник песен, исполнявшихся на свадьбах, а не единое
произведение, поэма или драматическое действо, как нередко ее пытались и
теперь еще пытаются толковать. Среди вошедших в сборник отдельных песен
есть более древние и более поздние»
4". Однако литературный
анализ текста позволяет нам с точностью утверждать, что ни о какой
компиляции речи идти не может. Лейтмотив книги — это диалог Жениха и
Невесты. Причем, каждая из песней охватывает многогранность природы и
просторы Земли Израиля. Никакого разрыва или компилятивности в тексте
нет. А цитирующиеся далее популяризатором «доводы» (слова и топонимы
«более позднего», чем Соломоново, времени) легко объясняются именно
обозначенным нами «весьма поздним» происхождением книги. Не ее частей, а
всей книги целиком. Если мы поймем, что упоминание Фирцы не есть
интерполяция в текст, то мы должны будем ответить, что значит этот
топоним (имевший историческое значение весьма краткое время) в устах
автора книги Песнь Песней. Этому литературному вопросу уделено
всестороннее внимание в коллективном труде современных американских
филологов и библеистов У. Сенфорда и Ф. Буша «Обзор Ветхого Завета»
5
(гл. 45). Авторы проводят литературные параллели с сирийской и
ассирийской письменностью, с египетской лирикой. Но, в сущности все это
не отвечает на вопрос о смысле и о содержании книги. То, что автор книги
Песнь Песней пользуется языком любовной лирики, — это бесспорно. Вопрос
в другом: что он излагает — поэму о любви или богословскую притчу? Все
литературные критические изыскания указывают только на сходство языка,
но не имеют возможности утверждать сходство содержания.
3. Что означает название книги Песнь Песней Соломона?
Мы установили, что Песнь Песней не принадлежит не только перу
Соломона, но даже его эпохе, и теперь перед нами встает вопрос о смысле
наименования, данного произведению. Разумеется, история священной
письменности знает множество апокрифов и псевдоэпиграфов. Нередко, чтобы
придать произведению больший авторитет, древние авторы подписывали его
именем более древнего и авторитетного лица. Но в нашем случае не может
идти речь ни об апокрифе, ни о псевдоэпиграфе.
«Shir ha shirim asher lö Shelomo» может быть переведено и как Песнь
Песней Соломону, и как Песнь Песней Соломона, и как Песнь Песней о
Соломоне
6. Современные американские филологи-библеисты
предлагают как вариант Песнь Песней в стиле Соломона. Такое прочтение
заглавия книги может означать, что поздние авторы Песни Песней и не
скрывали, что их труд —
стилизация под архаический текст. О
самом Соломоне в Песни Песней (3:7, 9 и 11; 8:11–12) говорится только в
третьем лице. Упоминание столицы «северного царства» Фирцы (6:4) говорит
о том, что Песнь Песней не была составлена ни самим Соломоном, ни при
его жизни. Текстуальная критика указывает на арамеизмы и грецизмы в
Песни Песней
7, что свидетельствует в пользу более позднего
происхождения текста — не ранее эпохи Второго храма (т.е. после VI в. до
н.э.). Но, как мы видели, историческая критика убеждает нас в том, что
Песнь Песен не была известна даже во II веке до н.э.
Именно время написания этой книги дает нам возможность понять ее название. В
библейской исторической науке общепризнано, что I век до н.э. — I век
н.э. является временем напряженного мессианского ожидания. Всякая
выдающаяся личность вызывала вопрос толпы: «Уж не это ли Христос»? (ср.
Ин. 1:19–20; Лк. 3:15). Напряженное ожидание прихода Мессии было присуще
даже соседним с евреями народам (Ин. 4:25). Но ожидание большей части
иудеев были, как бы мы сегодня сказали, «сильно политизированными»: В
Мессии видели того, кто восстановит царство Давида и Соломона, единое
«царство Израиля» (ср. Деян. 1:6; Ин. 6:15). Именно Соломон был
прообразом Мессии для последователей «политического мессианства»: во
время этого царя Израиль достиг небывалого расцвета не только во
внутренней жизни (культура, письменность, архитектура, искусства,
построен первый в мире храм Истинному Богу), но и во внешней: его
границы простирались от Нила до Евфрата, а внешнеполитические успехи
(дружба, династические браки, военные союзы и торговые отношения с
крупными державами) больше не имели аналогов в истории этого народа.
Образ Соломона изображен в Псалме 71-м (по еврейскому счету — 72-м),
который так и называется: lö Shelomo (о Соломоне): «Он сойдет как дождь
на скошенный луг, как капли, орошающие землю; во дни его процветет
праведник, и будет обилие мира, доколе не престанет луна; он будет
обладать от моря до моря и от реки до концов земли; падут пред ним
жители пустынь, и враги его будут лизать прах; цари Фарсиса и островов
поднесут ему дань; цари Аравии и Савы принесут дары; и поклонятся ему
все цари; все народы будут служить ему; ибо он избавит нищего, вопиющего
и угнетенного, у которого нет помощника. Будетмилосерд к нищему и
убогому, и души убогих спасет; отковарства и насилия избавит души их, и
драгоценна будет кровь их пред очами его; и будет жить, и будут давать
ему от золота Аравии, и будут молиться о нем непрестанно, всякий день
благословлять его» (Пс. 71:6–15). Внутренняя праведность и
справедливость в Израиле (справедливый суд, защита нищих) и
внешнеполитические успехи (торговые союзы с Аравией, приносящей золото, и
вассальная зависимость ряда царей земных, приносящих ему дань как
сюзерену) — вот образ идеального Израиля.
Несомненно,именно этот
псалом вдохновил анонимного автора составить гимн Соломону как прообразу
ожидаемого Мессии, Спасителя народа Израиля. В сущности Песнь Песней —
это развернутая картина Пс. 71/72.
4. Символика Песни Песней
Здесь мы рассмотрим некоторые стихи из Песни Песней и дадим им объяснение.
1.
«Пойдите и посмотрите, дщери Сионские, на царя Соломона в венце, которым
увенчала его мать его в день бракосочетания его, в день, радостный для
сердца его». (3:11).
Итак, Соломон — это только собирательный образ, точнее — прообраз
Мессии, который «восстановит царство Израилю». Но почему в тексте так
много брачнойсимволики? Почему книга все время говорит о браке илио
брачных ласках жениха и невесты? Для ответа на этот вопрос важно
учитывать, что «в библейские времена под«браком» понимались прежде всего
взаимные обязательства, а не интимная близость. В законодательстве
рядастран муж и жена являются одним юридическим лицом. Например, с мужа
можно взыскивать долги жены, и наоборот8. Именно библейская
семантика легла в основу того, что «возведение царя на престол» и в
поздней Византии, и на Руси стали именовать «венчанием на царство».Царь —
это человек, который венчан со своей землей и со своим народом, и
должен относиться к ним с той заботой, с которой относится муж и отец
(безусловный глава семьи по библейской парадигме) к своему дому, к своей
жене и к детям. Вот почему при восшествии Давида на престол явившиеся к
нему от лица народа старейшины говорят: «Вот, мы — кости твои и плоть
твоя» (2 Цар. 5:1). Понятие «единой плоти», являющееся фундаментальным
понятием в определении сущности брака (см. Быт. 2:24), не имеет ярко
выраженного сексуального значения. Термин «басар» (плоть) в Библии
обозначал не только супругов, но и всех членов семьи. Но кровное
(«плотское») родство всюду является независимым от нас, и только в браке
человек сам добровольно выбирает себе «вторую половину». Повторимся,
что речь идет не только и даже не столько о сексуальной близости телес,
но — о единстве семьи! И Истинный царь Израиля мыслится как отец и муж
всего народа — глава этой большой семьи. Тут так же уместно будет
вспомнить, что и священник в православной христианской (византийской)
традиции при хиротонии «венчается» с алтарем и должен стать любящим
«женихом» своей «невесты» (прихода, вверенного ему).
2. «Встретили меня стражи, обходящие город, избили меня, изранили меня; сняли с меня покрывало стерегущие стены» (5:7).
Пришел черед рассмотреть и этот текст. Если Невеста — это Израиль, а
Жених — Мессия, то кто такие «стражи», надругавшиеся над ней? Песнь
Песней органически вплетена в традицию библейской письменности. Ее автор
использовал символику языка пророков и других библейских текстов,
поэтому его прекрасно понимали те, к кому он непосредственно обращался. И
для верного понимания этого текста нам так же следует посмотреть, кого
именуют библейские тексты «стражами».
«...Стражи их слепы все и невежды: все они немые псы, не могущие
лаять, бредящие лежа, любящие спать. И это псы, жадные душою, не знающие
сытости; и
это пастыри бессмысленные: все смотрят на свою
дорогу, каждый до последнего, на свою корысть» (Ис. 56:10–11). Стражи
Израиля — это пастыри, священники, законоучители и т.д. Все те, кто до
прихода Мессии должны были оберегать «Невесту», обобрали и обесчестили
ее. Вот почему — едва Он появился — Она с болью, не стыдясь своего
позора и своего унижения, жалуется Ему на этих лукавых «слуг народа».
Что представлял собою Израиль в I веке н.э.? Узурпаторская, да еще и
иноплеменная династия Иродов не была законной правящей династией в
Израиле. Она обирала и унижала народ. Не отставали и законоучители
Израиля, о которых Христос сказал много нелестных слов: «Горе вам,
книжники и фарисеи, лицемеры, что объедаете дома вдов и лицемерно долго
молитесь: за то примете тем большее осуждение» (Мф.23:14). Бесчестие,
которому подверглась «Невеста», невозможно было утаить. Но в этом нет ее
вины, а потому она смело говорит о своих ранах, показывает свой позор
Спасителю. Израиль — не
«собственность» царя, которой он может пользоваться им в свое
удовольствие и по своему усмотрению. Израиль — удел Господа, а Мессии
лишь «Истинный Страж» (Блюститель — ср. 1 Пет. 2:25), хранящий чистоту
Невесты.
3. «Пришел я в сад мой, сестра моя, невеста. ...Ешьте, друзья, пейте и насыщайтесь, возлюбленные!»(5:1).
Если «Жених» есть Мессия, а «Невеста» — Его народ, то кто такие
«друзья жениха», которых последний приглашает разделить с ним сладости
Невесты? Мы уже установили очевидную и неоспоримую параллель между
Песнью Песней и Псалмом 71/72. Здесь представлены «цари народов»,
служившие Соломону. Это те народы, с которыми Израиль не вел войны, а
напротив, заключал союзы и делился своими культурными и религиозными
сокровищами. Эти народы предоставляли Соломону своих дочерей для
заключения династических браков. Но, как увидим далее, эти браки в Песни
Песней тоже имели символическое значение.
Pages: 1
2